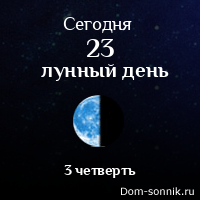Как только речь заходит об Украине и российской специальной операции градус тональности в Европе зашкаливает. Власти предержащие, «говорящие телевизионные головы» и пишущие журналисты твердят об одном: Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В дискуссию вбрасываются всё новые идеи насчёт того, как бы ещё хуже сделать России. Причём сделать-то руками украинцев. Идёт соревнование: кто сможет высказать более сумасшедшее предложение. Некоторое время назад лидировали прибалты. Сейчас между собой соревнуются французский президент и британский министр. Что это? Массовое помешательство?
Инстинкт самосохранения (ведь если сказать что-то иное, то можно лишиться работы, а значит – и средств к существованию)? Искренняя убеждённость в собственной правоте? Не берусь судить. Но знаю, что есть на Западе (по крайней мере в Европе) и те, кто думает иначе. И не только среди простых людей, но и среди политиков, особенно вышедших в отставку. Это, кстати, интересный феномен – многие отставники сразу после ухода со службы меняют взгляды и становятся куда более объективными и трезвомыслящими, чем до того. Они начинают прислушиваться к различным высказываниям, не совпадающим с официально принятой линией, более критично относятся к действиям властей (к которым и сами недавно принадлежали), готовы порой заняться исправлением того, за что выступали и что поддерживали раньше.
Известно, что людям приедается бесконечное повторение одних и тех же оценок, лозунгов и обещаний, чем почти во всех странах грешит официальная пропаганда. Постепенно мы перестаём воспринимать всё то, что льётся на нас с экранов телевидения, публикуется в газетах и социальных сетях. Это становится неким фоном, с наличием которого приходится мириться, но не обязательно вслушиваться. Напротив, возникает потребность, по крайней мере у людей думающих, узнать, нет ли альтернативной точки зрения. Её-то обычно и предлагают отставники. И к ним прислушиваются хотя бы потому, что то, что они говорили раньше, будучи во власти, уже забылось, а ощущение, что раньше было лучше, осталось.
Рано или поздно и сегодняшние западные руководители дозреют до понимания необходимости начать разговор с Россией об урегулировании положения в Европе, о будущей системе безопасности, учитывающей интересы и нашей, и других стран. Какой-то диалог начнётся. Но, скорее всего не с теми, кто сейчас у власти (они уже сейчас подыскивают себе место в каких-либо международных структурах – МВФ, Мировой банк, Еврокомиссии или структурах НАТО), а с теми, кто придёт им на смену, с кем-то из сегодняшнего второго или третьего властного эшелона. Ясно, что это будут непростые переговоры. Запад будет цепляться за ту геополитическую и связанную с ней экономическую конструкцию, которую он сначала подспудно, а потом более явно продвигал всё время после окончания холодной войны и распада СССР. Ведь именно то, что ему досталось в результате распада Советского Союза, всю систему влияния на политику и экономику стран самоустранившегося бывшего Восточного блока Запад считает своей законной добычей, своего рода наследством, результатом многолетних усилий по продвижению собственных идей об идеальной картине мира. Увы, мы сами нередко потакали ему, соглашаясь из-за своей тогдашней слабости и наивной веры в порядочность «партнёров» на невыгодные для себя условия. Позволяли вытеснять себя с наших исконных позиций, надеялись, что нас будут считать равноправными участниками системы международных отношений и добрыми соседями в новой жизни, свободной от взаимных устрашений времён холодной войны. Началось это во время поздней перестройки, и особенно грешил подобным легковерным отношением Эдуард Шеварднадзе, объяснявший многие свои уступки тем, что «попросили партнёры, а они люди хорошие».

Инициатива начала переговоров должна быть за нашим сегодняшним противником. Он должен «созреть», прийти к пониманию тупиковости своей нынешней политики, порочности действий и помыслов.

Он должен убедиться в невозможности победы над Россией, забыть о своих былых рассуждениях о желании и возможности поставить её на колени. Нам же проявлять инициативу не следует, поскольку это явно будет воспринято как слабость и готовность идти на попятную. Не следует забывать и о возможной реакции внутри страны. Неизбежно в обществе возникнут вопросы, зачем были все жертвы.
Сейчас вряд ли возможно в деталях выписать будущие переговоры. Очень многое будет зависеть от ситуации на фронте. Да, собственно, именно от этого зависит и сама возможность и необходимость переговоров. Но уже сейчас можно попытаться сформулировать некоторый набор требований, который должен быть предложен в качестве основы для разговора. Часть из них уже неоднократно излагалась и нашим президентом, и другими членами руководства. Повторять нет смысла. Тем, кому надо освежить память, достаточно перечитать хотя бы выступление президента в начале СВО и те предложения об архитектуре европейской безопасности, которые были переданы западникам в конце 2021 г. и были ими цинично отвергнуты.
Но, думаю, сегодня этого уже недостаточно. Одна из основных черт современной политики – ставшая чрезмерной (и оттого опасной) публичность. В стремлении угодить публике и повысить рейтинг публичные политики и их консультанты по связям с общественностью зачастую выбирают путь скандала. Чем более провокационным будет выступление, тем больше внимания оно привлечёт, тем больше эмоций вызовет у публики. Докапываться до сути, искать подтверждение и перепроверять факты будут единицы. Именно с этим мы сталкиваемся сегодня и именно на этом публичном поле нам нужно будет выиграть одно из решающих сражений.
Слишком много гнусностей было сделано и высказано в адрес нашей страны публичными политиками разных стран бывшего советского блока (и не только), чтобы оставить это без внимания и тем самым создать иллюзию прощения. Совершенно ясно, что многое озвучивается с чужих слов и чужой подсказки, так что с абсолютным большинством этих марионеток говорить совершенно бессмысленно, да и недостойны они разговора на равных с нами. А вот от тех, кто стоит за ними и играет роль кукловодов, мы должны будем потребовать, чтобы они призвали к порядку тех же прибалтов, кричащих с каждой трибуны, что на них сейчас нападут и требующих закрыть для России Балтику, молдавскую президентшу, издевающуюся над приднестровцами и гагаузами, румынских деятелей, забывших, что их предшественникам снисходительно простили грехи 1940-х годов и тогдашнюю поддержку гитлеровцев. Полякам – особый счёт.
Понятно, что на переговорах ни в коем случае нельзя выдвигать унизительные требования или тем более заведомо невыполнимые: даже если на словах ваш собеседник и согласится с ними, на деле он ничего не сделает, а кардинальное решение проблем будет отложено на неизвестный срок. Болезнь будет загнана внутрь, воспаление продолжится, риск нового рецидива останется.
Так, настаивать на исключении тех или иных стран из политических блоков и группировок, в которые они уже вошли, будет явно контрпродуктивно. А вот о манере поведения, сдержанности в словах и действиях – говорить и договариваться можно и нужно. Такие договорённости будут означать равноправие и учёт интересов всех заинтересованных сторон. Достичь этого нелегко. Чтобы пойти на такое многим действующим сегодня европейским политикам, чьё мировоззрение и заведомо негативное отношение к России сложилось в постсоветскую эпоху, придётся пережить крах привычных антироссийских устоев и внутреннюю ломку. Помочь им в этом смогут лишь те (преимущественно заокеанские) кураторы, на кого они равняются, на чью защиту в случае чего рассчитывают, чьими «лейтенантами» служат и готовы служить и дальше.

Основные переговоры нам предстоит вести с «командующими» сегодняшним кризисом. Именно они в первую очередь должны осознать, что от их решений будет зависеть в том числе и их собственное положение в будущем мире. И если их мало волнует судьба их восточноевропейских подчинённых, то собственное-то благополучие не может не волновать.

В конце концов прошлые поспешные, обусловленные чисто политическими конъюнктурными соображениями решения, ошибочность которых сегодня очевидна даже им самим, не должны повторяться. Разницу между риторикой и реалиями они должны понимать, хотя сомнения в здравом уме и трезвом рассудке многих современных публичных политиков возникают всё чаще.
В отдельный блок будущих переговоров нужно вынести экономику. Но и здесь наша позиция должна быть предельно чёткой. Нельзя допустить ложного представления о том, будто бы мы просим о каком-то смягчении санкций. Разговор должен быть сфокусирован на нашей готовности подумать о том, как мы можем поспособствовать хотя бы смягчению того экономического кризиса, в который наши западные партнёры сами себя вогнали, прекратив экономическое сотрудничество с нами, уйдя с российского рынка. В частности, сотрудничество в энергетике. Умные и разбирающиеся в основах экономики люди понимают, что без российских энергоносителей европейская промышленность продолжит терять конкурентоспособность. Пружина кризиса будет сжиматься дальше, сколько бы зелёные ни говорили о перспективных возможностях, ветряках и солнечных панелях. Даже если застроить ими всю Европу, их мощности не хватит на привычное обеспечение потребностей промышленности, не говоря уже о цене этой энергетики для населения. Бегство крупных энергоёмких предприятий из Европы продолжается, примеров банкротства малого и среднего бизнеса тоже хватает. Но в мире публичной политики всё спокойно, всё идёт по плану, так и должно быть. А раз так, то и менять что-либо пока нет смысла, инициативу запуска, например, второй нитки «Северного потока» должны проявить те, кто и разрушил, или как минимум не препятствовал, подрыву его первой очереди.
Запад будет представлять начавшийся разговор, а тем более его результаты как свою большую победу. От того, насколько европейцы поймут истинные причины случившегося, насколько участники переговоров захотят услышать и понять аргументацию друг друга, зависит прочность той военно-политической конструкции, которую нужно разработать сообща. А значит, и стабильность и выгодность для нас будущих отношений с Западной Европой. И тут очень большое значение имеет тактика ведения нами переговоров. В нашей стране исторически были сильные переговорщики. Они добивались успеха в урегулировании многих региональных кризисов, приемлемых результатов в разоруженческом и других процессах. Многие из них по разным причинам сегодня не у дел. Но школа-то осталась, и накопленный разнообразный опыт должен быть востребован.
Сегодня, наверное, мало кто припомнит, что в своё время Владимир Ленин писал, что результат той или иной внешнеполитической акции лишь на 5 процентов зависит от усилий дипломатов. Остальное решает соотношение сил. Нет нужды спорить, правильно ли он определил это процентное соотношение. Во время любого конфликта соотношение сил часто бывает на уровне «50 на 50», так что эти 5 «дипломатических» процентов могут оказаться решающими. В любом случае не лишними, даже если перевес сил на твоей стороне.
Нам важно добиться сначала понимания, а затем и поддержки мотивов наших действий жителями, населением стран, которые мы сегодня относим к категории недружественных. Ведь не навеки они останутся такими. Рано или поздно наступит время нормализации. Да, это будут уже другие отношения между государствами, но это не значит, что и отношения на личностном уровне должны полностью измениться. Хотелось бы избежать массовой «разрухи в головах», так гениально описанной Михаилом Булгаковым. Отношения между людьми должны оставаться корректными и уважительными, никто не должен держать камень за пазухой из-за драматических просчётов прежних руководителей государств. Без этого не исчезнут те стены из колючей проволоки, которые сегодня возводятся на востоке континента, физически возвращая нас во времена Берлинской стены и железного занавеса. Тридцать лет назад публичные политики приложили максимум усилий к их исчезновению, сегодня новое поколение европейцев строит новые. История развивается по спирали.
Думаю, что в некоторой степени способствовать изменениям в общественном восприятии происходящего могут те самые «прозревшие» отставные политики и военные. К ним по-прежнему обращаются журналисты в поисках подтверждений, с просьбами прокомментировать происходящее, высказать свою точку зрения. В наших интересах подкрепить их суждения нужными нам аргументами и иной фактурой.
Мы можем это сделать. Уверен, что со многими представителями Запада у нас на личностном уровне сохранились контакты. Скорее всего отношения сегодня не такие стабильные и доверительные, как прежде. Но можно и нужно попытаться их реанимировать. И нашим посольствам, консульствам, представительствам Россотрудничества, торговым представительствам, журналистам, одним словом, всем тем, кто в прошлом плотно сотрудничал с Западом хорошо бы уже сейчас задуматься, с кем нужно и можно возобновить былые контакты.
Многое могут сделать учёные, сотрудники научно-исследовательских центров, вузов и так далее. А сколько наших специалистов работало в западных компаниях до их ухода с нашего рынка, сколько людей в своё время участвовало в студенческих межвузовских обменах, училось в разных странах, изучало языки и культуру друг друга, сколько личных контактов сохранилось, профессиональных и дружеских! У них сегодня гораздо больше возможностей для встреч и бесед со своими коллегами и друзьями, чем у чиновников. Если не очных бесед, то хотя бы виртуального общения, обмена мнениями, частного и профессионального. Надо не упускать этих возможностей – это огромный капитал, не задействовать его нельзя! Именно это и будет примером той самой «мягкой силы», потенциал которой мы не всегда полностью используем.
К сожалению, на официальном уровне многие гуманитарные программы сотрудничества, например, партнёрства между городами-побратимами, были заморожены в одностороннем порядке по инициативе Запада практически в первые же дни после объявления о начале специальной военной операции. Но люди по-прежнему общаются, что очень ценно. Этот ресурс терять нельзя.
По своему опыту работы знаю о важности подобных неформальных контактов, прямых, без пропагандистских штампов разговоров с людьми. Главной целью таких разговоров является не прямолинейная защита любой ценой нашей политики и действий по её воплощению, а установление хорошего контакта с людьми. Добиться же этого можно, лишь допуская, что они, будучи искренними и неглупыми людьми, могут иметь свои взгляды, отличные от взглядов сторонников нашей политики. Часто и потому, что многих фактов не знают, в доступных им книгах и периодических изданиях об этом не пишут.
Конечно, вести такого рода разговоры непросто. С одной стороны, нельзя наносить ущерб нашей политике безответственной болтовней. С другой, нельзя докучать людям и отталкивать их бесконечным повторением положений, строго соответствующих директивной линии. Надо уметь, лишь кратко коснувшись невыгодного вопроса, уйти от его обсуждения, либо полностью обойти такие вызывающие неоднозначные суждения темы, как, например, дело Ходорковского или Навального, которые лишь вызывают нескончаемые споры, насыщенные бездоказательными утверждениями. Надо стараться концентрировать внимание собеседника на таких темах, по которым в результате обмена мнениями может быть достигнута высокая степень если не согласия, то понимания.
Работая в Германии, я регулярно встречался с бывшим министром иностранных дел Геншером. Нередко по его инициативе, когда он задумывал очередную публикацию. У меня было ощущение, что Геншеру – человеку активному и не избавившемуся от привычки быть в центре событий – часто хотелось если не заявить, то напомнить о себе и высказать свои суждения о современной политике, порой довольно критические, и эти свои мысли он как бы проверял в наших разговорах. Собеседником он был внимательным и расположенным к партнёру. Если в чём-то из услышанного от меня сомневался, то переспрашивал, уточнял. Если же был не согласен, то своё мнение высказывал не в поучающей, резко категоричной манере, а в виде рассуждений, граничащих с попыткой посоветоваться. Я, кстати, был тогда приятно удивлён этой дипломатичностью, отсутствием проявления столь присущей многим немцам черте всезнайки (Besserwisser – знать все обо всём, категорически судить обо всём и не терпеть чужого мнения). В его публикациях я позже находил отголоски наших разговоров, приводимую мною аргументацию и высказанное мнение по тому или иному вопросу. Естественно, без ссылки на источник. Тем и несовпадающих позиций всегда хватало, но Геншер никогда не ссылался на то, что ту или иную мысль он услышал от меня, не хотел предстать якобы защитником наших взглядов. Но если с чем-то соглашался, то, не стесняясь, выдавал это за своё мнение.
Понятно, что сейчас и время другое, и отношение к нам изменилось. Но попытаться приготовить задел на будущее жизненно необходимо. Ведь одна из важнейших задач тех, кто занимается внешней политикой, это создание сегодня условий для более активной и плодотворной работы завтра.
В политических кругах Западной Европы отношение к нам хуже некуда. Если посмотреть на Германию, которая сравнительно недавно слыла одной из хорошо понимавших нас стран, то там такие понятия, как «Восточная политика Брандта», «историческое примирение» и многие другие, не просто забыты, а стали чуть ли не ругательными. И произошло это во многом под влиянием пришедших к власти временщиков, особенно из партии «Зелёных». Однако их шансы надолго сохранить свои политические позиции уменьшаются с каждым продавленным ими решением, противоречащим интересам страны, а значит – и жизненным интересам простых немцев. Число таких решений множится и явно уменьшает степень доверия избирателя.
Параллельно с этим в ФРГ растёт и количество политиков регионального уровня и активистов, защищающих интересы бизнеса, сильно пострадавшего от действий федерального правительства. Среди них действующие и бывшие премьер-министры федеральных земель, руководители крупных и средних компаний на западе и на востоке страны. Они хорошо понимают, что среднестатистическому немцу жилось лучше, когда отношения с Россией были нормальными. И они отнюдь не склонны каяться перед американцами и прибалтами за прошлое сотрудничество с нами, чем нынешнее правительство пытается оправдать поддержку Киева. Их голоса слышны всё громче, что представляет определённую угрозу для находящихся у власти, поэтому клеймо «коричневых и крайне правых» публичные политики ставят без разбора – как на членов оппозиционных партий и движений «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт», так и на протестующих против преференций для украинской продукции фермеров. Все ли они выступают именно с пророссийских позиций? Вряд ли. Скорее защищают свои интересы, что логично. В момент начала переговорного процесса наши интересы в поисках рационального звена, понимания взаимовыгодного сотрудничества и выгоды для простых среднестатистических граждан могут совпасть с интересами этих людей, они могут стать нашей опорой в обществе ФРГ и опосредованно воздействовать на публичных политиков.
Для сегодняшнего немецкого правительства, официального Берлина, сама мысль о возможной победе России недопустима, поскольку это будет означать обрушение всех устоев НАТО и Евросоюза, необходимость новых принципов европейского строительства. Но это правительство не вечно, а кое-кто из его членов понимает ошибочность сегодняшней политики, но ради сохранения собственных позиций помалкивает. Перестав же быть «при портфеле», как показывает практика, они начнут высказывать более здравые суждения. Примеров таких перемен в сознании предостаточно.
Во власти в Германии есть здравомыслящие люди, многие из которых близки к завершению активной карьеры. Например, формальный глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер. Он, в частности, будучи министром иностранных дел прямо говорил о понимании причин, по которым Крым стал в 2014 г. российским. Правда, скорее не в публичных выступлениях, а в камерной обстановке, но говорил вполне искренне. Уверен, что некоторые его поздние, неприятные нам высказывания объясняются текущей конъюнктурой, а не здравой оценкой ситуации. Он – политик гибкий и думающий, тому есть и практические подтверждения. На предыдущих государственных должностях – руководителя аппарата канцлера, а затем министра иностранных дел он активно продвигал мысль, что Германии наряду с доминирующими опорами на атлантизм и европеизм необходима и третья – сотрудничество с востоком континента, в частности в гуманитарной сфере. Подобные здравые суждения авторитетных деятелей нужны сейчас и Германии, и Украине, и нам.
Сегодня часто цитируют известное высказывание Наполеона: «География – это судьба». География и судьбы остаются переплетены, и после завершения украинского кризиса отношения России и Европы будут постепенно восстанавливаться. На новой, учитывающей интересы всех сторон основе. Сомнительно, что Германия будет в передовиках этого процесса, вероятно, заинтересованность первыми проявят как раз страны восточной Европы, сильнее других пострадавшие от разрыва былых связей и более мобильные в своих взглядах и действиях. Однако и от попыток понять позицию сегодняшних политиков (и возможных завтрашних наставников переговорщиков) – таких, как, скажем, Штайнмайер, отказываться не нужно, как и от новых граней сотрудничества. Пора готовиться к работе с ними, постепенно заново выстраивать отношения в свою пользу, учитывая просчёты и извлекая уроки из прошлых ошибок. В Германии и в других странах.
Автор: Сергей Крылов, чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке, профессор кафедры дипломатии МГИМО, советский и российский дипломат, заместитель министра иностранных дел РФ в 1993–1996 годах.
Источник Source